Навигация
Дидро о теории и практике французского театра
2.2 Дидро о теории и практике французского театра
XVIII в. принципиально изменил роль театра. Его подлинная эволюция была связана, конечно, не с придворным театром, занятым почти исключительно упрямым повторением давно уже омертвевших банальных трафаретов и безудержным угодничеством, доходившим до особенной, почти пародийной нелепости в придворной опере, чудовищные либретто которой не спасала даже чудесная музыка Рамо. Но путь настоящего театра проходил от ярмарочных представлений начала века, пьесы для которых не гнушался писать Лесаж, и до театра Бомарше, насыщенного предгрозовой атмосферой кануна Великой французской революции.
Именно в этой линии театральной культуры XVIII в. развернулась подлинная, непринужденно и мастерски организованная зрелищность, четко отделяющая зрителя от представления, утверждающая сколь угодно дерзкую и откровенную условность (как, скажем, у Гоцци) ради особенно отчетливого подчеркивания правдивости человеческих действий и чувств. Проникаясь все глубже идеями Просвещения, театр все более открыто противопоставлял грубой и пустой парадности придворного театра утверждение безграничной мощи человеческого разума.
Среди поистине энциклопедических интересов Дидро драма и театр занимали видное место. Это естественно, ибо просветители видели в театре важное средство пропаганды их идей. Собственное драматургическое творчество Дидро, его пьесы «Побочный сын» (1757) и «Отец семейства» (1758) не были произведениями большого искусства. Дидро написал их, чтобы показать, какою должна быть просветительская драма. Даже Лессинг, во многом единомышленник Дидро, вынужден был признать, что они не отвечают высоким художественным требованиям (Лессинг Г.Э. Гамбургская драматургия. М., 1936. С. 314 – 316). Гораздо значительнее вклад Дидро в теорию драмы. До него считалось безусловным, что драма имеет два основных вида — трагедию и комедию. Но, утверждал Дидро, в каждом моральном явлении различаются середина и две крайности. Обе крайности в драме признаны, но не признается необходимость середины между ними.
«... Человек не всегда бывает в горе или в радости. Существует, следовательно, некое расстояние, разделяющее комический и трагический жанры» (5, 143). Этому виду пьес Дидро дал название «серьезного жанра». Впоследствии их стали называть просто «драмами». В современной ему драматургии возник тип пьес, получивших наименование «слезные комедии», который не отвечал, однако, понятиям Дидро. Ему претила сентиментальная чувствительность, и это получило ясное выражение в его взглядах на сценическое искусство.
Суждения великого мыслителя о сценическому искусству этом содержатся в различных произведениях: в романе «Нескромные сокровища» (1748), «Беседах о „Побочном сыне"» (1757), трактате «О драматической поэзии» (1758), «Парадоксе об актере» (1770—1778) и в его переписке.
Уже в «Нескромных сокровищах» выражены те идеи, которые Дидро потом разовьет в сочинениях, специально посвященных утверждению принципов новой буржуазной просветительской драмы. Устами фаворитки монарха Дидро нападает на трагедии классицистического типа, изображающие судьбы царственных особ. «... Я знаю,— говорит Мирзоза,— что нравиться и умилять нас может одна лишь правда. Я знаю также, что совершенство спектакля заключается в столь точном воспроизведении какого-нибудь действия, что зритель, пребывая в некоем обмане, воображает, будто присутствует при самом этом действии. А есть ли что-либо подобное в трагедиях, которые вы так нам расхваливаете?» (3, 346— 347).
Возвышенному и напыщенному стилю трагедий соответствует манера их сценического воплощения. «Разве разговорная речь похожа на нашу декламацию? Разве принцы и короли ходят иначе, чем всякий нормальный человек? Разве они когда-нибудь жестикулируют как... бешеные? Разве принцессы издают во время речи пронзительные визги?» (3, 348).
Трагический театр XVII века создал ряд приемов сценического исполнения, которые современникам представлялись естественными. В середине XVIII века, когда все более сильной становится тенденция приблизить искусство к действительности, крайности этой манеры, сохранявшиеся на сцене, уже воспринимались зрителями иначе. «Натянутая поступь актеров, причудливость их костюмов, экстравагантность их жестов, напыщенность их речи, необычной, рифмованной и размеренной, и тысячи других диссонансов» (3, 349) — все эти типичные черты сценического стиля классицизма, перечисляемые Мирзозой, разрушают иллюзию правдивости происходящего на сцене.
Заметим, однако, что не вся классицистическая трагедия была, по мнению Дидро, напыщенной. Такой упрек можно, скорее, предъявить Корнелю, но он возмещает этот недостаток своеобразной логикой и силой своих характеров. В известной мере Дидро, однако, согласен с теми, кто находит корнелевскую манеру диалога «топорной», переполненной до крайности доводами, отмечая, что «она больше удивляет, чем волнует» (5, 405). Он имеет в виду Расина, когда говорит о другой манере диалога, в котором «реплики соединены такими тонкими чувствами, такими мимолетными мыслями, такими стремительными душевными движениями, такими неощутимыми намерениями, что кажутся бессвязными, особенно тем, кто не рожден, чтоб испытать подобные переживания в подобных обстоятельствах» (5, 406).
Дидро особенно восхищается Мольером, его умением сочетать драматизм со сценическим действием. «Мольер часто неподражаем. У него есть однословные сцены между четырьмя, пятью собеседниками, где каждый произносит не больше одного слова, но слово это присуще характеру, рисует его(...)
Даже когда этот изумительный человек и не заботится о том, чтоб приложить весь свой гений, и тогда его чувствуешь. Эльмира могла бы наброситься на Тартюфа, а у Тартюфа был бы вид глупца, попавшего в грубую ловушку, но поглядите, как он вышел из этого. Эльмира выслушала объяснение Тартюфа без негодования (акт III, сцена 3). Она приказала своему сыну молчать.
Она сама замечает, что человека, увлеченного страстью, легко соблазнить. Вот как поэт обманывает зрителя и уклоняется от сцены, которая без этих предосторожностей потребовала бы, как мне кажется, еще больше искусства, чем написанная им...» (5, 407—408).
Мы помним, как искусно построил Мольер разоблачение Тартюфа.
Приводя эти высказывания, мы переходим от «Нескромных сокровищ» к взглядам, высказанным Дидро в середине 1750-х годов. Но прежде чем обратиться к сочинениям тех лет, надо кратко сказать о переписке Дидро с французской актрисой Мари Жанной Риккобони (1714—1792), которая не только играла на сцене, но и писала сентиментальные романы. О последнем надо упомянуть, потому что на сцене ей удавались преимущественно меланхолические роли и совсем не была свойственна живая и динамичная манера актеров Итальянской комедии, одного из двух главных парижских театров.
В переписке с ней Дидро коснулся ряда вопросов сценического искусства. Мари Жанна была сторонницей принятых сценических условностей. Она твердо стояла на том, что актер всегда должен говорить, стоя лицом к публике. На возражения Дидро она отвечала, что зрители привыкли к этому. Дидро же настаивал, что этот глупый обычай следует отменить, как и пребывание привилегированных зрителей на сцене (последнее, как известно, было прекращено в 1759 году). Споря с защитницей сценических условностей, принятых в театре XVII века, Дидро восклицает: «О, как ужасна, как тосклива игра, в которой запрещено поднимать руки выше определенной высоты, которая устанавливает, на какое расстояние можно отклонять руку от тела, и определяет, что наклоняться следует только на четверть круга! Уж не решили ли вы всю жизнь быть только манекенами?».
В вопросах творчества актера Дидро является теоретиком того типа игры, который мы, по современной терминологии, называем «искусством представления», противопоставляя ему в качестве подлинно реалистического «искусство переживания». Последнее, по учению К.С. Станиславского, состоит в подлинности актерского переживания и поведения на сцене. Но подлинность эта является не стихийной, а сознательной, в результате чего переживания и поведение актера оказываются подчиненными идее пьесы, сверхзадаче спектакля и воплощают их.
В «Парадоксе об актере» отчетливо обнаруживаются социальные корни эстетики Дидро. Он сравнивает спектакль с обществом и выводит необходимость подчинения чувства рассудку на сцене из необходимости подчинения личных интересов общественным в жизни. «Спектакль подобен хорошо организованному обществу, где каждый жертвует своими правами для блага всех и всего целого. Кто же лучше определит меру этой жертвы? Энтузиаст? Фанатик? Конечно, нет. В обществе — это будет справедливый человек, на сцене — актер с холодной головой» (5, 583).
Справедливый человек для Дидро — гражданин, а справедливое общество — демократическая республика. В ней, в отличие от абсолютной монархии, где люди порабощены, каждый является свободным частным индивидом, человеком вообще и вместе с тем гражданином.
Для парижской публики подлинным открытием нового стиля актерской игры были гастроли великого английского актера Гаррика в 1763— 1764 годах, отличавшегося от господствовавшего на французской сцене декламационного стиля своей поразительной жизненной правдивостью. Французский балетмейстер Жан Жорж Новер (1727—1810) в своих «Письмах о танце» (1760) с восхищением писал о способности Гаррика перевоплощаться в совершенно противоположные образы и характеры. «Он играл трагедию, комедию, комическую сценку и фарс с одинаковым превосходством; он влагал в дикцию правдивые и верные интонации.
В трагедии у него звучали слезы: он потрясал зрителей, увлекал их душу раздирающими картинами, которые заставляли их погружаться в самую неподдельную скорбь, и электризовал их огнем страстей и чувств, которые охватывали их душу. Таков был талант Гаррика, таковы эффекты правдивого выражения живой декламации, которая вся берет начало из природы и почти ничего — от искусства. Представив самые великие характеры, через четверть часа он появлялся в маленькой пьеске и, исполняя роль плутоватого слуги алхимика, сразу осушал слезы, которые только что лились. Он заражал зрителей весельем и вызывал взрывы смеха, за которыми вскоре следовала самая глубокая печаль» (Хрестоматия по истории западноевропейского театра /Под ред. С. Мокульского. М., 1955. Т. 2. С. 154/.
Новер отмечал такую важную особенность Гаррика: «Природа дала ему очень драгоценный дар, придав всем его чертам и мускулам его лица самую совершенную подвижность до такой степени, что его физиономия была зеркалом его души; она с легкостью как бы складывалась и раздвигалась при изображении чувства и страсти, испытываемой им. Постоянно изменчивая игра его лица, поддерживаемая взглядом, полным огня, оживляла его речь и давала ему ту энергию молчания, которая иногда более выразительна, чем сама речь» (Хрестоматия по истории западноевропейского театра. Т. 2. С. 153—154).
У Дидро мы находим живое воспроизведение этой способности английского актера. «Между створками двери появляется голова Гаррика, и в течение четырех-пяти секунд лицо его последовательно переходит от безумной радости к радости тихой, от радости к спокойствию, от спокойствия к удивлению, от удивления к изумлению, от изумления к печали, от печали к унынию, от уныния к испугу, от испуга к ужасу, от ужаса к отчаянию и от этой последней ступени возвращается к исходной точке» (5, 589—590).
В то время, как победа реализма в английской литературе, живописи и сценическом искусстве уже свершилась, французский театр только вступал на этот путь, притом гораздо более робко, ибо традиции классицизма были еще очень сильны. Правда, современники хвалили и Мишеля Барона и Адриенну Лекуврер за то, что они умели трогать сердца своих зрителей. Но, как известно, в каждую эпоху существуют свои понятия о естественности актерской игры. Во всяком случае, в следующем поколении, во второй половине XVIII века, прославленная Клерон (она дебютировала во Французской комедии в 1743 году и оставила сцену в конце 1760-х годов) отнюдь не рассталась с декламационным стилем.
Драматург Жан Франсуа Мармонтель (1723—1799), сотрудник «Энциклопедии» Дидро, рассказал в своих мемуарах о спорах, которые он вел с актрисой, о манере декламировать трагические стихи. «Я находил в ее игре слишком много блеска, слишком много порывистости и недостаточно гибкости и разнообразия, а главное — силу, которая, не будучи сдерживаема, говорила, скорее, о горячности, чем о чувстве. Я старался осторожно дать ей понять это. „Несмотря на то, что вы большая актриса,— говорил я ей,— вам было бы легко подняться выше самой себя, внося чувство меры в ваши приемы, которые вы столь щедро расточаете. Вы мне противопоставляете ваши блестящие успехи и те, которыми я вам обязан; вы мне противопоставляете мнение и одобрение ваших друзей, вы мне противопоставляете авторитет господина Вольтера, который сам читает свои стихи напыщенно и который полагает, что трагические стихи требуют в декламации той же напыщенности, как и в стиле; я же могу противопоставлять вам только непреложное чувство, которое говорит мне, что декламация, как и слог, может быть благородной, величественной, трагической, будучи простой; что выражение, чтобы быть живым и глубоко захватывающим, требует градаций, нюансов, неожиданных и внезапных черточек, которых у него не может быть, когда оно натянуто и принужденно"» (Хрестоматия по истории западноевропейского театра. Т. 2. С 429).
Соперницей Клерон была Мари Дюмениль, игравшая во Французской комедии с 1737 по 1777 год и отличавшаяся особой непосредственностью на сцене. Гаррик, по словам Новера, хвалил «речевое исполнение ее, пылкое и незаученное, восхитительные периоды, легкую речь, красноречивые движения без затверженных правил» (Там же. С. 425).
Клерон и Дюмениль были представительницами двух манер актерского исполнения. По-видимому, Дидро был первым, кто видел в этом не просто проявления индивидуальности актрис, но два противоположных принципа сценического искусства. Именно так оценил он этот контраст в своем «Парадоксе об актере».
Следует заметить, что основные мысли этого блестящего сочинения Дидро получили выражение уже в статье, опубликованной в «Литературной корреспонденции» Гримма в 1770-х годах. Переработав в 1773 году эту статью в форму диалога, в 1778 году Дидро завершил ее окончательную редакцию. Однако в печати она появилась посмертно, лишь в 1830 году.
В XVIII веке все еще безусловной считалась эстетическая формула «искусство есть подражание природе». Дидро придерживается ее, внося, однако, существенное уточнение, тоже принадлежащее к сравнительно общим местам эстетики XVIII века, а именно — искусство не является непосредственным воспроизведением природы. Это относится и к актерскому искусству. Природа дает актеру необходимые для сцены качества. Но их следует усовершенствовать посредством «изучения великих образцов» (5, 569), а также «знания человеческого сердца, умения обращаться в свете» и т. д. (Там же).
Здесь даже отдельные слова дают понять, что Дидро отнюдь не намерен ниспровергать принцип подражания «прекрасной природе». «Актер-подражатель,— говорит Первый из собеседников „Парадокса об актере", выражающий мнение самого Дидро,— может добиться того, чтобы все передавать сносно. В его игре нечего ни хвалить, ни порицать(...) Природный актер часто отвратителен, иногда превосходен (...) Как может природа без искусства создать великого актера, когда ничто на сцене не повторяет природы, а все драматические произведения написаны согласно известной системе правил?» (5, 569—570).
Автор брошюры, с которым спорит Дидро, утверждал естественность и непосредственность, то есть прямое подражание природе. Дидро иначе понимает качества, необходимые великому актеру. «Я хочу, чтобы он был очень рассудочным; он должен быть холодным, спокойным наблюдателем. Следовательно, я требую от него проницательности, но никак не чувствительности, искусства всему подражать... способности передавать любые роли и характеры» (5, 571).
Актер, подчиненный только эмоциям, будет неровен. «Игра нутром» не дает никакой цельности образа, на разных спектаклях актер будет то сильным, то слабым, то горячим, то холодным. «Меж тем актер, который играет, руководствуясь рассудком, изучением человеческой природы, неустанным подражанием идеальному образу, воображением, памятью,— будет одинаков на всех представлениях, всегда равно совершенен: все было измерено, рассчитано, изучено, упорядочено в его голове; нет в его декламации ни однообразия, ни диссонансов. Пылкость имеет свои нарастания, взлеты, снижения, начало, середину и высшую точку. Те же интонации, те же позы, те же движения; если что-нибудь меняется от представления к представлению, то обычно в пользу последнего. Такой актер не переменчив: это зеркало, всегда отражающее предметы и отражающее с равной точностью, силой и правдивостью» (5, 572—573).
Как известно, это положение Дидро стало одной из основ системы К.С. Станиславского. Но, конечно, тождества между концепциями Дидро и великого режиссера нет. Однако, безусловно, что оба боролись против игры «нутром». Воплощением защищаемого им принципа для Дидро является актриса Клерон. «Что может быть совершеннее игры Клерон? Однако последите за ней, изучите ее, и вы убедитесь, что к шестому представлению она знает наизусть все детали своей... роли. Несомненно, она создала себе образ, и сперва стремилась приспособиться к нему; несомненно, образ этот она задумала сколь можно более высоким, величественным и совершенным. Но образ этот — взятый ли из истории, или вызванный ее воображением подобно призраку,— не она сама. Будь он лишь равен ей, какой слабой и жалкой была бы ее игра! Когда путем упорной работы она приблизилась, насколько смогла, к своей идее,— все кончено; твердо держаться на этом уровне — дело упражнений и памяти <....> лишь только поднялась она на высоту своего призрака, борьба окончена; она владеет собой, она повторяет себя без всякого волнения» (5, 573).
В «Парадоксе об актере» Дидро выступает против классицистической выспренности, ходульности, неестественности актерской игры, за уже знакомую нам триаду — правда, естественность, простота. Но вместе с тем он резко подчеркивает несовпадение сценической правды, естественности, простоты с натуральным поведением и реальными чувствами актера в жизни. Дидро выступает против того, что в театре называется «игрой нутром», то есть против чрезмерной чувствительности, не контролируемой разумом, против эмоциональной возбудимости и стихийности, которые подменяют подлинное творчество. Чувствительный актер играет неровно, его успехи и неудачи в равной мере имеют характер случайности.
Поэтому Дидро требует от актера рассудочности и самоконтроля, которые должны вытекать из общих представлений об образе, о смысле роли. Парадокс состоит в своего рода «обратном соотношении» между чувствительностью и рассудком, которое является условием достижения правдивости актерской игры: «Крайняя чувствительность порождает посредственных актеров; посредственная чувствительность порождает толпы скверных актеров; полное отсутствие чувствительности создает величайших актеров» (5, 577).
Можно подумать, что Дидро здесь возвращается к классицистическому рационализму и схематизму. Но это не так. Он лишь против плоского, внешнего правдоподобия за подлинную, глубокую правду, создающую идеальные образы. Вспомним еще раз его слова: «Поразмыслите над тем, что в театре называют быть правдивым. Значит ли это вести себя на сцене как в жизни? Нисколько. Правдивость в таком понимании превратилась бы в пошлость. Что же такое театральная правдивость? Это соответствие действий, речи, лица, голоса, движения, жестов идеальному образцу, созданному воображением поэта и зачастую еще возвеличенному актером» (5, 580).
Дидро отвергает чрезмерную эмоциональность, не отрицая значения чувств и страстей в искусстве. Что же касается эмоций, то он борется против «чувствительности», занявшей во второй половине XVIII века слишком большое место в разных видах искусства.
Поколение Лекена (1729—1778) и Клерон (1723—1803) ввело небольшие реформы в костюме, но сохраняло приверженность декламационной манере, смягчив ее, избавив от излишеств и сделав движения и жестикуляцию не столь резкими. И он, и она были актерами, близкими Вольтеру. Ему нужна была такая игра, при которой не пропадал бы за яростью жестикуляции смысл текста, служившего целям утверждения просветительских идей. Но манера игры оставалась достаточно условной и, во всяком случае, вполне возвышенной.
В «Парадоксе об актере» есть одно место, достаточно ясно показывающее, какой стиль сценической игры был неугоден Дидро и какой он одобрял. Послушаем Дидро: «Несчастная женщина, действительно несчастная, плачет, и она вас ничуть не трогает; хуже того: какая-нибудь легкая черта, ее обезобразившая, смешит вас, свойственные ей интонации режут вам слух и раздражают вас; из-за какого-нибудь привычного ей движения скорбь ее вам кажется неблагородной и отталкивающей, ибо почти все чрезмерные страсти вызывают гримасы, которые безвкусный актер рабски копирует, но великий артист избегает. Мы хотим, чтобы при сильнейших терзаниях человек сохранял человеческий характер и достоинство своей породы. В чем эффект этих героических усилий? В том, чтобы смягчить и рассеять нашу скорбь. Мы хотим, чтобы женщина падала пристойно и мягко, а герой умирал подобно древнему гладиатору, посреди арены, под аплодисменты цирка, грациозно и благородно, в изящной и живописной позе <...> Древний гладиатор, подобно великому актеру, и великий актер, подобно древнему гладиатору, не умирают так, как умирают в постели,— они должны изображать другую смерть, чтоб нам понравиться, и чуткий зритель поймет, что обнаженная правда, действие, лишенное прикрас, выглядело бы жалким и противоречило бы поэзии целого» (5, 581).
Дидро, как мы знаем, сам писал пьесы. То были не трагедии, а серьезные драмы. Однако подлинной жизни французской буржуазии XVIII века в них мы не найдем. Для этого надо обратиться к «Тюркаре» (1709) Лесажа. Буржуа в «Побочном сыне» и «Отце семейства» Дидро нисколько не похожи на жуликов и пройдох, выведенных Лесажем. Это добродетельные герои, призванные служить образцами морального поведения для третьего сословия и укором для распущенного безнравственного дворянства. Обе пьесы, написанные прозой, изобилуют сентенциями.
Сам Дидро отчетливо сознавал, что его пьесы нельзя играть в бытовой манере. Он остроумно выразил это в «Беседах о „Побочном сыне"», где «Я» беседует с героем этой пьесы Дорвалем. Собеседники разбирают третью сцену четвертого акта «Побочного сына»: «Вы представляете себе нас, Констанцию и меня, на краю подмостков,— говорит Дорваль,— мы стоим, вытянувшись, смотрим друг на друга сбоку и поочередно изрекаем вопросы и ответы. Но разве в гостиной это было так? Мы то садились, то вставали; иногда мы ходили. Часто мы останавливались, отнюдь не торопясь закончить беседу, одинаково интересовавшую нас обоих. Чего только ни говорила она мне! Чего только ни отвечал ей я!» (5, 132— 133).
Дидро даже приводит слова, якобы сказанные Дорвалем Констанции в их реальной беседе, но не включенные в пьесу; предостаточно там и тирад, наподобие той, которую произносит Констанция: «Я знаю, сколько зла причинил фанатизм, и каких зол можно еще опасаться от него в будущем <...> Да, конечно, существуют еще варвары, да и когда их не будет! Но времена варварства все же прошли. Просветился наш век! Прояснился разум, заповеди его вдохновляют наши национальные произведения, и читаться будут лишь те из них, которые внушают человеку всеобщую доброжелательность. Вот чему учат порою наши театры и чему должны учить еще чаще<...> Непрестанно мы будем им показывать, что законы человеколюбия вечны и ничто не может освободить от их соблюдения. И мы увидим, как в их душах будет зарождаться то начало всеобщего благотворения, которое охватывает всю природу...» (5, 62—63).
Здесь нет поэтического метра, рифмы, но это не обычная разговорная речь. Эта проза не менее возвышенна, чем поэтические тирады героев трагедий Вольтера. В бытовой манере произносить их нельзя. Но уже и не требуется того полного кипящей страсти языка, которым потрясали актеры начала века. Просветительские идеи разума и добра, проповедуемые устами добронравной и благородной в своих чувствах буржуазки, требуют возвышенного стиля речи. Никакая разговорность здесь не может иметь места. Да и сценическое поведение не может быть бытовым, что подчеркнул Дорваль, указав на разницу между тем, как эта сцена якобы происходила в действительности и как она происходит на сцене.
«Театр — не место для проповеди»,— по всякому случаю повторяет Дидро. Из театра зритель должен уйти потрясенным. Путь к его разуму лежит исключительно через его чувства. И, конечно же, их легче затронуть, когда положение персонажа ближе к положению зрителя. Поэтому, не отвергая того общечеловеческого, что несет в себе трагедия классицизма или трагедия Шекспира (последнему в этом смысле часто отдается предпочтение), Дидро все же склонен изображать обыденность. В этом театральная подоснова его «мещанской», или «буржуазной», драмы, или же «среднего жанра», как он иногда его именует, подразумевая его способность развиваться как в сторону трагедии, так и в сторону комедии.
Но вот беда: Дидро, рассуждая о собственном драматургическом творчестве, не устает упрекать себя именно в проповедничестве, поучительности. Да и другой адепт «буржуазной драмы», человек, художественно, бесспорно, более одаренный — Лессинг, посмеялся над его «Побочным сыном» за философскую велеречивость. Последнее, впрочем, не помешало Лессингу дважды издать обе «буржуазные драмы» Дидро и сопровождавшие их трактаты в собственном переводе. Это был акт справедливости: он и сам, пусть в меньшей мере, грешил тем же, в чем обвинял Дидро. Очевидно, в новом жанре заключалось некое изначальное органическое противоречие, которое, если перевести его на язык тогдашних философских понятий, состояло в трудности достижения гармонии чувства и разума. И если «чувство» подталкивало к тому, чтобы овладеть эмоциями зрителя, то «разум» вынуждал четко формулировать требования, предъявляемые к добродетельному человеку.
Изначальная установка Дидро-художника — такая же, как у Дидро-философа. Он не беспристрастный наблюдатель, а учитель жизни, и собственные его упреки себе за проповедничество никак не следует понимать слишком буквально. Дидро не отказывается от того, чтобы учить зрителя, только ему хочется учить не словами, а при помощи убедительных, укорененных в жизни примеров, и он сетует на себя за то, что ему это не всегда удается. Это вот стремление к выявлению идейного начала и является самой крепкой нитью, связывающей его с классицизмом. «Организованность» классицистической драмы как раз и помогала избежать разночтений, сосредоточиться на заявленной мысли, сконцентрировать на ней внимание зрителя.
Классицистическую драму мы назвали бы сейчас «интеллектуальной», и от этой интеллектуальности Дидро, разумеется, не помышляет отказываться. Он только не верит, что интеллектуальность связана со всеми установлениями и даже частностями классицистической эстетики. Он тоже за строгость формы, но строгость эта не должна обеднять действительность, мешать полноте изображения, лишать его объема и красок.
В этом смысле чрезвычайно показательна постоянная забота Дидро об убедительном построении мизансцен. Он против того, чтобы актер был «связан симметричной расстановкой» (5, 174). Здесь сценическая практика классицизма отвергается им с порога. Каждую мизансцену он предлагает рассматривать как картину, как нечто приемлемое для живописи, стремящейся передать сюжет уже самой расстановкой и положением фигур. И если на сцене действуют живые люди, значит ли это, что она, с точки зрения изобразительного искусства, да и вообще любого искусства, должна обладать меньшей правдивостью, чем мертвое полотно? «Разве на сцене правда менее важна, чем на полотне?» (5, 97).
Дидро не раз заявлял, что театр находится на границе между словесными и изобразительными искусствами, и его рассуждения о мизансцене как «композиции, приемлемой для живописи», являются лишь частным выражением этого общего взгляда. Вспомним заодно, что оба крупнейших просветительских реалиста Западной Европы — Дидро и Лессинг — профессионально занимались не только проблемами театра, но и проблемами живописи Лессинг написал своего «Лаокоона». Дидро много лет трудился над «Салонами». Им ли было не знать, что живопись тоже подчинена определенным законам? Но Дидро именно как профессионалу должно было казаться диким сводить сложные законы живописи к элементарным законам симметрии.
Дидро за «организованное» искусство: он хочет подчинить его новым законам, позаимствовав, разумеется, все приемлемое из старых. Потому-то он так нетерпим к «неправильностям» английской драмы, и потому же завидует ее свободе, помогающей ему в перестройке старого. Эта свобода формы тем привлекательнее для него, что в ней он видит отражение политической свободы, которой располагает английский народ в отличие от французского. Это в свое время сказал Шефтсбери, и Дидро с ним совершенно согласен. Но Дидро за свободу, а не за беззаконие.
Как истинный просветитель, Дидро хочет, чтобы серьезная драма отражала происходящее в жизни, но не мелочи буржуазного быта, а движение самой истории. Драма должна быть полна мудрости, быть философичной. Дорваль в «Беседах о „Побочном сыне"» говорит: «Гораций хотел, чтобы поэт черпал свои познания в произведениях Сократа (...) Я же думаю, что в каждом произведении, каково бы оно ни было, должен сказаться дух века. Если нравы становятся чище, предрассудки слабеют; если в настроениях общества замечается склонность к всеобщему доброжелательству, если растет потребность в полезных вещах, если народ интересуется делами государственного управления — это должно находить отражение даже в комедиях» (5, 136).
Как видим, серьезная драма имеет гораздо более значительные цели, нежели отражение реального быта третьего сословия. В словах Дидро сказывается стремление к драме подлинно гражданской, поднимающей большие общественные вопросы, утверждающей социальные и нравственные идеалы просветителей. Дидро неизменно подчеркивал единство всех компонентов театра: драмы, характера героев, стиля речи. Он был вполне последователен, утверждая в драме «серьезный жанр», а в сценическом исполнении тоже некий стиль, занимавший среднее место между крайностями сценической игры — условностью и бытовой манерой. Актерское искусство должно стать более естественным, но не снизиться до натурализма. Возвышенный стиль следует освободить от напыщенности и чопорности. Речь актера должна в подлинном смысле слова стать голосом разума. Таковы основы театральной эстетики Дидро.
Похожие работы
... дальше этих выдающихся мыслителей. В лоне французского Просвещения произошло эпохальное изменение социальной ориентированности новоевропейского материализма, английские основоположники которого (Ф.Бэкон, Т.Гоббс) были сторонниками королевского абсолютизма, роялистами, идеологами аристократии. Во Франции XVIII века материализм был преобразован так, что стал служить обоснованием решительной борьбы ...
... нем: «Французская школа, единственная, которая существует, еще далека от упадка. Соберите, если можете, все работы живописцев и скульпторов Европы, и вы из них не составите нашего Салона». Итальянское искусство XVIII века по сравнению с французским было менее влиятельным, но его отдельные представители не уступали, а подчас своим профессиональным мастерством и превосходили французских художников. ...
... знаний, оптимистически оценивало возможности общественного прогресса, пыталось открыть людям глаза на собственную природу. Штрихи к портретам французских философов Вольтер Франсуа Мари Аруэ (1694-1778) виднейший французский просветитель XVIII в., писатель, философ. Вольтер принадлежит к числу мыслителей, которые своей острой критикой церкви и феодальных порядков ...
... в связи внешности и человеческих качеств: «У человека с открытой душой и лицо открытое» (Ф. Шиллер). Но это отнюдь не единственная модель существования человека, представленная в культуре XVIII века. 2. Джентльмен и «порядочный человек» «Блистать в обществе дано немногим, но большинство людей могут быть приятными» – этот афоризм Джонатана Свифта характеризует существо требований к ...
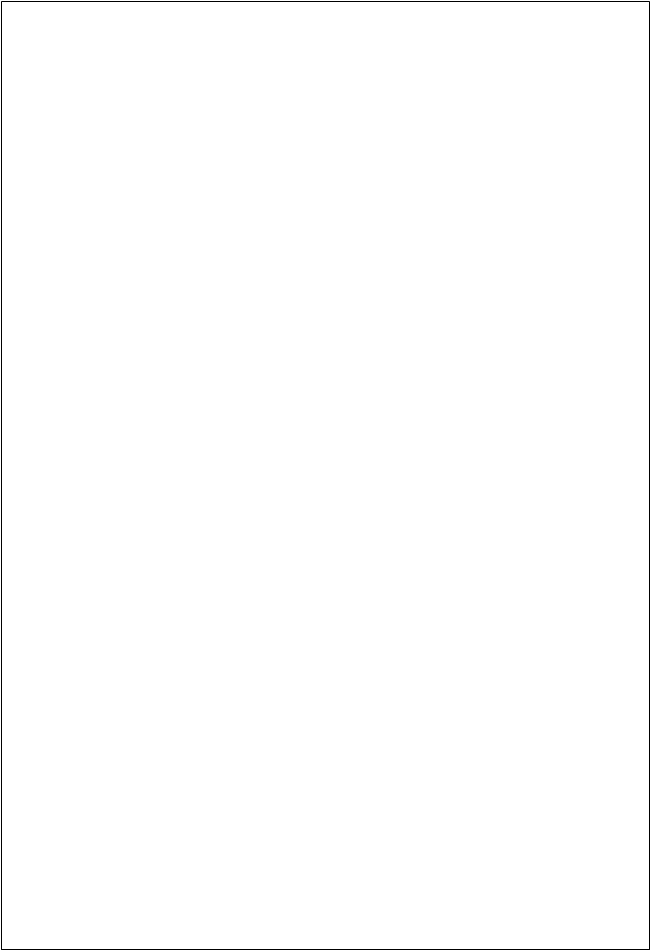
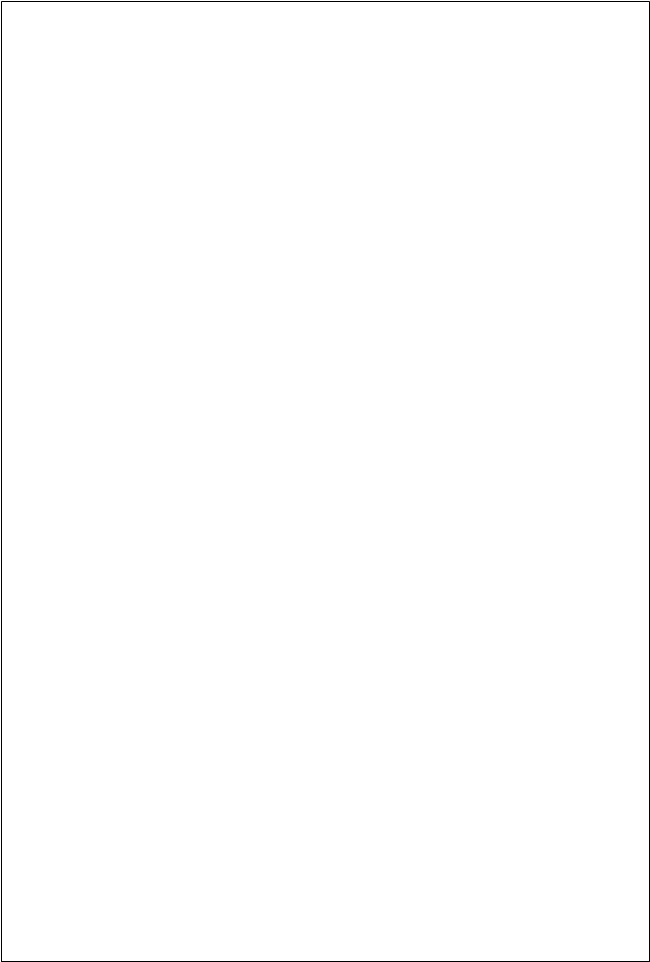
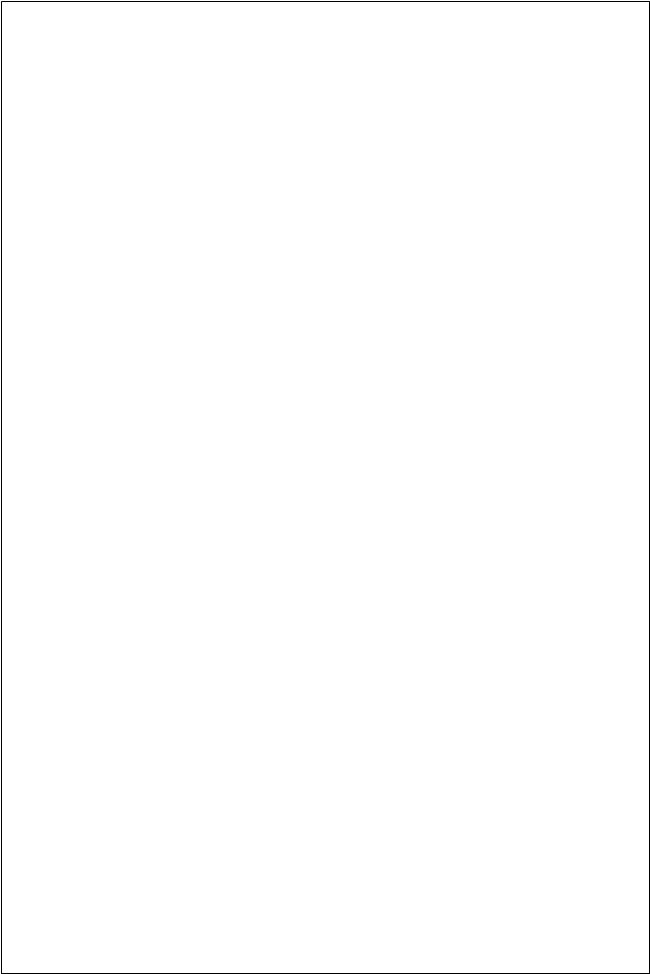

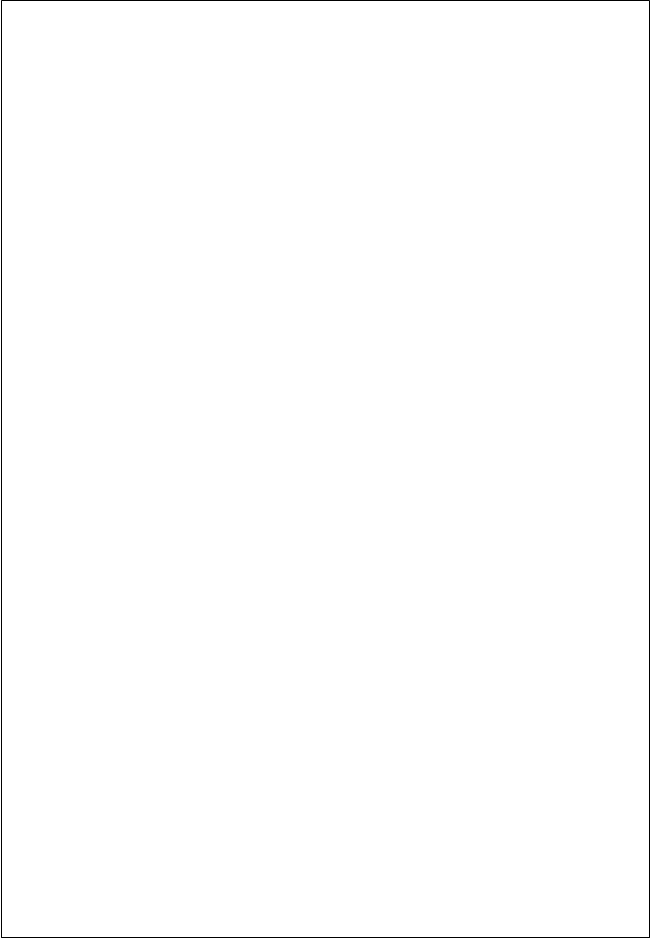
0 комментариев