Навигация
Гуманитарная классическая гимназия №57
Пушкин в Москве.
Реферат выполнил
Тюленёв Александр Александрович.
Руководитель
Толмачевская Ирина Борисовна.
Курган 1999 год.
План.
I. Введение.
II. Детство А. С. Пушкина.
1. Предки Пушкина.
2. Основные черты характера Пушкина – ребёнка.
III. После ссылки в Москве. 11826 – 1830 года.
1. Встреча поэта с императором Николаем Первым.
2. Пушкин и московские литературные кружки Д. Венивитинова и Н. Полевого.
3. Издательство Журнала «Современник».
4. Сватьба Пушкина с Н. Н. Гончаровой.
IV. Временные приезды Пушкина в Москву в 1831-1836 годах.
1. Встречи с Близкими друзьями ( П. В. Нащокиным, П. А. Чаадаевым, П. А. Вяземским ).
2. Визит Пушкина в Московский Университет.
3. Посещение архивов.
4. Последний визит Пушкина в Москву.
V. Пушкин в памяти потомков.
1. Памятник А. С. Пушкину работы скульптора Опекушина.
2. Музей на Арбате.
3. Музей на Кропоткинской, 12.
4. Празднование 200-летия со дня рождения великого поэта.
VI. Заключение.
В этом году отмечается двухсотлетие со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. У каждого – свой Пушкин, и каждый должен открыть его заново – умом и сердцем – для себя. В наше время, тревожное и печальное, во дни уничтожения устоев и нравственных скреп, не много духовных прибежищ осталось для человека, именно таким уцелевшим оплотом сегодня является Пушкин — наш земной учитель жизни, мирской символ державы, когда-то несокрушимой, а ныне — униженной и поверженной. Каждое поколение прочитывает Пушкина по-своему, открывая его для себя впервые, с позиций своего времени и мировоззрения. Представление о Пушкине включает суждения о его внешнем облике, об истории жизни, характере, увлечениях, окружающих его людях – обо всём, что необходимо для понимании личности поэта. Всё это я попытаюсь отразить в теме о московской жизни поэта.
В Москве Пушкин прожил около трети своей жизни. Пушкинисты условно выделяют три периода московской жизни поэта.
Свои детские годы, до поступления в Лицей в 1811 году, Пушкин прожил в Москве.
8 июня 1799 года и метрической книге московской церкви Богоявления Господня, что в Елохове, появилась запись:
«Мая 27. Во дворе колежскаго регистратора Ивана Васильева Скварцова у жильца его Моэора Сергия Львовича Пушкина родился сын Александр крещен июня 8 дня восприемник Граф Артемий Иванович Воронцов кума мать означенного Сергия Пушкина вдова Ольга Васильевна Пушкина».
Александр Пушкин родился 26 мая 1799 года (в четверг, день Вознесения), но после захода солнца. Поэтому, согласно церковному обычаю, дата его рождения означена в метрике следующим числом.
Современники мало что знали о рождении поэта, как и о его детстве. Сам Пушкин редко вспоминал о своих детских годах. В этом отчасти сказались его отчужденные отношения с родителями. Главное же, Пушкин — и чем дальше, тем больше — поэтизировал свое второе рождение, духовное. Возводил он его к лицейским годам и лицейским влияниям. Культ дружбы отодвигал на задний план семью. Однако о своих более отдаленных предках, о своем роде в целом Пушкин вспоминал часто, охотно и не без гордости.
Крестной матерью Пушкина стала его родная бабка по отцу — Ольга Васильевна. Муж ее, Лев Александрович Пушкин, попал в немилость после 1762 года за то, что во время переворота сохранил верность Петру III. В автобиографических записках Пушкин рассказывал: «Он был посажен в крепость и выпущен через два года. С тех пор он уже в службу не вступал и жил в Москве и в своих деревнях.
Дед мой был человек пылкий и жестокий, Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе. Вторая жена его, урожденная Чичерина, довольно от него натерпелась. Однажды велел он ей одеться и ехать с ним куда-то в гости. Бабушка была на сносях и чувствовала себя нездоровой, но не смела отказаться. Дорогой она почувствовала муки. Дед мой велел кучеру остановиться, и она в карете разрешилась — чуть ли не моим отцом. Родильницу привезли домой полумертвую и положили на постель всю разряженную и в бриллиантах». Пушкин не ручается за полную достоверность отдельных подробностей; он делает оговорку, что все это известно ему по слухам. Но ведь тут существенна не только и не столько дотошная биографическая реконструкция, сколько влиявшая на Пушкина культурно-бытовая атмосфера, та, пусть отчасти мифологизированная, история, которая предшествовала Пушкину, занимая с детства его воображение.
Восприемником при крещении Пушкина был гр. Артемий Воронцов. Приходился он троюродным братом другой бабке поэта, с материнской стороны, — Марии Алексеевне Пушкиной, мужем которой был Осип Абрамович Ганнибал. «И сей брак был несчастлив,— рассказывал Пушкин.— Ревность жены и непостоянство мужа были причиною неудовольствий и ссор, которые кончились разводом. Африканский характер моего деда, пылкие страсти, соединенные с ужасным легкомыслием, вовлекли его в удивительные заблуждения. Он женился на другой жене, представя фальшивое свидетельстно о смерти первой. За несчастную Марию Алексеевну вступился брат ее мужа, другой сын «арапа Петра Великого», Иван Ганнибал. Ей вернули трехлетнюю дочь, будущую мать поэта — Надежду. Второй брак мужа был объявлен не действительным, а сам О. А. Ганнибал отправлен на службу в черноморский флот. Пушкин застал Осипа Ганнибала в живых и видел его в деревне.
Над купелью Пушкина клубился воздух восемнадцатого столетия. В России был век мятежей, самодурства и просвещения — можно сказать, просвещенного самодурства. Таким воспринял недавнее прошлое Пушкин — и всю жизнь XVIII век занимал его. Привлекала Пушкина не только история как процесс, но живые характеры: жестокие, причудливо своенравные — и вместе с тем сильные, необычайно цельные. То был как бы сказочный варварский эпос у истоков измельчавшей цивилизованной современности.
Где родился Пушкин? Современники — в силу названных выше причин - были мало осведомлены об этом. В 1822 году (Пушкин в это время находился в Кишенёве, но слава его уже вовсю путешествовала по России) Николай Греч в редакторском предисловии к публикации пушкинских стихов указывал на Петербург как на место рождения поэта. В 50-е годы прошлого столетия «первый пушкинист» П. В. Анненков уже твердо знал, что Пушкин родился в Москве, но помещал дом Пушкиных «на Молчановке» (близ Арбата). Однако это не так. Из опубликованной позднее записи о крещении Пушкина следовало, что родился он в Немецкой слободе. То был один из лучших районов тогдашней Москвы. Дом, в котором родился Пушкин, не сохранился. До самого последнего времени исследователи полагали, что находился он на месте нынешнего дома № 10 по улице Баумана (бывшая Немецкая). Теперь, однако, называют и другой адрес, неподалеку: по этим данным, дом Скворцова стоял на углу Малой Почтовой улицы и Госпитального переулка. Хозяин дома Иван Скворцов был, между прочим, сослуживцем Сергея Львовича Пушкина по Московскому комиссариату.
Близко расположена и Богоявленская церковь, в которой был крещен Пушкин. Современный адрес ее: площадь Баумана (бывшая Елоховская), дом № 15. Сельцо Елох было впервые упомянуто в духовной грамоте великого князя Дмитрия Донского. Позднее оно стало называться село Елохово. Богоявленская церковь стояла тут уже в XVII столетии. В 1731—1770 годах церковь Богоявления в Елохове была полностью отстроена заново. Строительство было, возможно, задержано пожаром: известно, что май 1748 года был месяцем пожаров в Москве и 23 мая горела вся Немецкая слобода; пострадала и церковь в Елохове. Именно в этом храме постройки XVIII века крестили Пушкина.
После пожара 1812 года Москве пришлось отстраиваться вновь. В 30-е годы настал черед Елоховской Богоявленской церкви. Здание было разобрано и в 1837—1845 годах возведено новое — в стиле позднего классицизма или так называемого ампира. Строил храм архитектор Е. Д. Тюрин. От постройки XVIII столетия сохранились нижний ярус колокольни и трапезная в классическом стиле с приделами, в одном из которых и крестили Пушкина. Ныне это Богоявленский патриарший собор.
Биография Пушкина восстанавливается по месяцам, по дням, а когда это возможно, даже по часам. Многое выяснено трудами нескольких поколений ученых, во сколько осталось еще «белых пятен»! Так и сегодня, приступая к описанию жизни Пушкина, сразу же ощущаешь, как мало мы знаем, например, о первых ее годах — годах детства: отрывочные строки автобиографии, несколько упоминаний в стихах и поздних письмах, немногие воспоминания современников... Пробел значительный. Ведь изучая биографии писателей, мы всегда убеждаемся, что истоки формирования личности восходят к детству, к ранним переживаниям и впечатлениям, к влиянию всей окружающей атмосферы. И все-таки по немногим дошедшим до нас сведениям о детских годах Пушкина контуры картины могут быть проявлены.
Каким был Пушкин в детстве? С самого раннего из его портретов (он обнаружен недавно и экспонирован в Московском музее А. С. Пушкина) на нас приветливо смотрит маленький мальчик с большими живыми глазами, смотрит испытующе, удивленно, словно с какой-то затаенной мыслью. Вспоминаются слова брата поэта— Льва: «лицо его было выразительно и одушевленно». Живой мальчик, курчавый, быстроглазый (слова И. И. Пущина), с резкими переходами настроения, замкнутый с одними, общительный с другими, легко ранимый, остро переживавший обиды и несправедливости, по-своему гордый и вместе с тем постоянно смущавшийся, он в семилетнем возрасте неожиданно превратился из робкого, неповоротливого, молчаливого в «необузданного», темпераментного, насмешливо-остроумного. Этот мальчик приводил в недоумение, постоянно вызывал упреки, порицания, нервные вспышки родителей и гувернеров. Детские годы Пушкина — это одновременно и яркие впечатления от окружающей жизни, это и пробуждение, не без влияния общей культурной атмосферы, страсти к творчеству, ставшему затем главной целью всей жизни, это и пробуждение личности, первые ее проявления. К Пушкину и в его ранние годы неприменимы обычные мерки. Его восприимчивость, сообразительность, его остроумие и тогда изумляли окружающих. О том, что он отличался «в ребячестве» необыкновенной памятью и в особенности «наблюдательным не по годам умом», писал отец поэта. « В самом младенчестве, — отмечал Сергей Львович, - он показал большое уважение к писателям». Известный в то время педагог Реми Жилле, впоследствии профессор одесского Ришельевского лицея, видя, с какой живостью маленький Пушкин реагировал на чтение стихов неким поэтом-моряком, заметил: «Чудное дитя... как рано все начал понимать! Дай бог, чтобы этот ребенок жил и жил; вы увидите, что из него будет». О ранней начитанности мальчика Лев Сергеевич вспоминал: «Пушкин был одарен памятью необыкновенной и на одиннадцатом году уже знал наизусть всю французскую литературу». Уже девяти лет, дополняет сестра Ольга Сергеевна, он «любил читать Плутарха», в это время зачитывался «Илиадой» и «Одиссеей» (во французском переводе). Страсть эту развивали в нем и сестре сами родители, читая им вслух занимательные книги. Отец в особенности мастерски читывал им Мольера. Он жадно «проглатывал» книги не только отцовской библиотеки, но бывал и в знаменитой огромной библиотеке графа Д. П. Бутурлина, дом которого, находился по соседству с домом, где жили Пушкины. П.А. Вяземский вспоминал, что «отец его был в приятельских отношениях с Карамзиным и Дмитриевым и сам, по тогдашнему обычаю, получил если не ученое, то. По крайней мере, литературное образование. Дядя Александра, Василий Львович, сам был поэт или, пожалуй, любезный стихотворец, и по тогдашним немудрым, но не менее того признанным требованиям был стихотворцем на счету. Вся обстановка должна была благотворно действовать на отрока. Зоркие глаза могли предвидеть « в отважном мальчике грядущего поэта». И немудрено, что девятилетнему мальчику захотелось попробовать себя в искусстве подражания и сделаться автором.
Любимым его упражнением сначала было импровизировать маленькие комедии и самому разыгрывать их перед сестрою, которая в этом случае составляла всю публику и произносила свой суд. Однажды как-то она освистала его пьеску «Похититель». Он не обиделся и сам на себя написал эпиграмму на французском языке:
«Скажи, за что «Похититель» освистан партером? Увы! За то, что бедняга сочинитель похитил его у Мольера».
В то же время пробовал сочинять басни, а потом, уже лет десяти от роду, начитавшись порядочно, особенно «Генриады» Вольтера, написал целую поэму, песнях в шести, под названием «Толиада», которой героем был карла царя-тунеядца Дагоберта, а содержанием война между карлами и карлицами... В 1836 году Пушкин, оценивая своё творчество, признавался: «Ежё в ребячестве бессмысленно лукавом я старцу в сеть попал».
В этом семействе перебывал легион иностранных гувернеров и гувернанток. Из них выбираю несносного, капризного самодура Русло да достойного его преемника Шеделя, в руках которых находилось обучение детей всем почти наукам. Из них Русло нанес оскорбление юному своему питомцу Александру Сергеевичу, расхохотавшись ему в глаза, когда ребенок написал стихотворную шутку. Русло довел Пушкина до слез, осмеяв безжалостно всякое слово этого четверостишия, и, имея сам претензию писать стихи не хуже Корнелия и Расина, рассудил, мало того, пожаловаться еще неумолимой Надежде Осиповне, обвиняя ребенка в лености и праздности. Разумеется, в глазах Надежды Осиповны дитя оказалось виноватым, а самодур правым, и она наказала сына, а самодуру за педагогический талант прибавила жалования. Оскорблённый ребёнок разорвал и бросил в печку стихи свои, а Русло возненавидел со всем пылом своей африканской крови.
Черты характера, которые только еще намечались в детстве, развернулись позже во всем облике гениальной личности, вызывавшей исключительным своеобразием, смелой независимостью , постоянные нападки ревнителей чинной морали, смиренности, послушания.
Формирование характера Пушкина в ранние годы происходило под влиянием многих перекрестных обстоятельств.
Когда читаешь описание современниками быта семьи Пушкиных, невольно возникают ассоциации с бытом литературной богемы. Полнейшая безалаберность, неразбериха, постоянные переезды с одной квартиры на другую, неожиданные сумасбродные решения… М. А. Корф, некоторое время живший по соседству с Пушкиными, вспоминал: «Дом их представлял всегда какой-то хаос: в одной комнате были богатые старинные мебли, в другой пустые стены, даже без стульев; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня, ветхие рыдваны с тощими клячами, пышные дамские наряды и вечный недостаток во всем, начиная с денег и до последнего стакана. Когда у них обедывало человека два-три, то всегда присылали к нам за приборами». Черты быта Пушкиных запечатлены в шуточных стихах Дельвига:
«Друг Пушкин, хочешь ли отведать
Дурного масла, яиц гнилых?
Так приходи со мной обедать
Сегодня у своих родных».
Многое, что было воспринято только просыпавшейся наблюдательностью мальчика, позже, в зрелые годы, вспыхивало в его воспоминаниях, преобразовывалось в художественные образы, оценивалось в свете накопленного в суровых испытаниях большого житейского опыта.
В 1817 году Пушкин вспоминал:
С какою тихою красою
Минуты детства протекли...
(«К Дельвигу»)
И здесь же — элегически: «...были дни мои посвящены покою». Это восхваление детских лет—не более чем отзвук традиционной лирики сентиментализма. Ни в стихах, ни в письмах, ни в воспоминаниях позднейшего времени Пушкин не говорил так о начальных годах своей жизни. Напротив, в программе автобиографии он трижды упоминает о тяжелых переживаниях в эти годы. Перерабатывая стихотворение «К Дельвигу», Пушкин вовсе выбросил идиллические строки о счастливом и покойном детстве. Идиллическим оно не было. «Первые неприятности», «Мои неприятные воспоминания», «Нестерпимое состояние» — настойчиво повторяется в плане описания детства. Каковы причины такого состояния, увидим позже. Пока заметим, что слова о «нестерпимом состоянии» нельзя понимать слишком уж расширительно.
Ранние стихотворные опыты Пушкина не встретили понимания в его семье. Его сосредоточенность в себе воспринималась окружающими как замкнутость и угрюмость, а попытки мальчика отстаивать свою свободу и независимость, протестовать против строгостей родителей и воспитателей — как дерзость и самоуверенность. Не видели, что началось пробуждение необыкновенно яркой, своеобразной личности, ее внутренний мир оказался за семью замками для тех, которым он, казалось бы, должен был быть открытым.
В двенадцать лет Пушкин покинул родительский дом. Оставлял он его без сожаления — перед ним открывалась новая жизнь, которая обещала большую самостоятельность, большие возможности найти ответы на зревшие в его сознании вопросы и искания.
«Меня везут в Петербург. Езуиты» - кратко отмечал Пушкин автобиографии.
Второй период жизни Пушкина в Москве относится к времени после возвращения его из ссылки, то есть с осени 1826 года до весны 1831 года, когда Пушкин окончательно переехал в Петербург.
28 августа 1826 года начальник Главного штаба Дибович записал резолюцию Николая: «Высочайше повелено Пушкина призвать сюда. Для сопровождения его командировать фельдъегеря. Пушкину позволяется ехать свободно под надзором фельдъегеря, не в виде арестанта. Пушкину прибыть прямо ко мне».
В ночь на 4 сентября за ним приехали в Михайловское. Арина Родионовна, испуганная за своего питомца, плачет навзрыд. Жандарм торопит. Пушкин спешно посылает в Тригорское садовника Архипа за своими пистолетами, без них ехать не хочет. Рано утром выезжает в Псков. 8 сентября он в Москве, и, в четыре часа дня, в дорожном костюме, усталый, прибывает в Чудов дворец и предстает перед императором.
Не зная о подлинных намерениях царя, Пушкин готов был, как писал в своих письмах друзьям, с ним «условливаться» (будто Николай I был человеком, словам которого можно было верить!). Новый царь, всего лишь две недели тому назад официально коронованный, был только на три года старше Пушкина. Все, кто видел когда-либо Николая, утверждали, что он всегда позировал, выражение его лица могло быть свирепым, торжественным, любезным, сочувственным, но никогда не отражало истинных его чувств и мыслей. На допросах декабристов, стремясь вырвать нужные признания, он соответственно моменту менял маски. В одних случаях грозил сгноить в Крепости, заковать в кандалы, уморить голодом, применял и другие приемы деморализации, подавления воли арестованных. Иногда же он прикидывался другом народа, реформатором, даже плакал, уверяя, что сам готов выполнить программу, за которую боролось тайное общество. При этом он оказался таким искусным актером, что даже столь убежденный декабрист, как Каховский услышав уверения царя, что он хочет быть «отцом отечества», поддался обману и писал ему из крепости: «Добрый государь, я видел слезы сострадания на глазах Ваших». В некоторых случаях Николай действовал «лаской». Так, декабриста Гангеблова он «отечески» журил: «Что вы, батюшка, наделали...» На иных он пытался воздействовать «заботой» о семьях и т. д. Только утонченным лицемерием царя можно объяснить, что некоторые декабристы, находясь в крепости, писали ему письма, в которых всерьез давали советы, какими путями нужно и можно реформировать Россию.
Николай Павлович был высок ростом, строен и смолоду красив. Отличная выправка гвардейского офицера позволяла ему держаться величественно и скрывать страх и неуверенность в себе, которые терзали его в первые годы царствования, пока лесть и бесконтрольность не вселили в него столь же неограниченную самоуверенность. Он получил весьма посредственное образование и обладал ограниченным кругозором фрунтового командира. Идея неограниченного деспотизма и божественного происхождения власти — жалкая и архаическая идеология крошечных немецких дворов — крепко держалась в голове его матери Марии Федоровны, которая сумела внушить ее младшим сыновьям — Николаю и Михаилу. Помноженная на мощь дворянского бюрократического государства и огромные материальные возможности России, эта идея дала самые мрачные плоды. Николай был убежден в том, что от подвластной ему страны он вправе требовать безоговорочного исполнения любых приказов. Не только любое проявление собственного мнения, вольной мысли, но и простое нарушение симметрии, идеалов казарменной красоты казалось ему невыносимым и оскорбительным. В сентябре 1827 года — через год после свидания с Пушкиным— Николай I встретил в Петербурге на Невском мальчика -гимназиста в расстегнутом мундире. Дело это, стоившее не более чем замечания гувернера, стало предметом расследования как событие государственной важности. По приказу императора военный генерал-губернатор столицы Голенищев-Кутузов (тот самый, который распоряжался казнью декабристов) разыскал «виновного» и доносил: «Неопрятность и безобразный вид его, по личному моему осмотру, происходит от несчастного физического его сложения, у него на груди и на спине горбы, а сюртук так узок, что он застегнуть его не может». Военный генерал-губернатор Петербурга, генерал-адъютант лично осматривал больного мальчика, чтобы убедиться, что в его «безобразном виде» не кроется никакой крамолы! И император, прочтя это, не испытал стыда, а начертал резолюцию, предписывающую отослать задержанного к министру народного просвещения, последнему же последовал выговор: отчего «одели в платье, которого носить не может».
Этот, сам по себе ничтожный эпизод исключительно ярко рисует Николая I, о котором Бенкендорф писал: «Развлечение государя со своими войсками, по собственному его сознанию, — единственное и истинное для него наслаждение».
Однако мы не поймем отношений Пушкина с Николаем Павловичем, если будем смотреть на последнего, забывая, что в 1826 году многие отрицательные черты его характера еще были скрыты, и закрывая глаза на ряд привлекательных черт нового царя. Александр I был лукав и лицемерен, словам его не верили даже в близком кругу. Николай I, сознательно подчеркивая выгодный для себя контраст, разыгрывал прямодушного солдата, рыцаря своего слова, джентльмена. Он демонстративно устранил Аракчеева, вызвав вздох облегчения всей России. Административному бессилию последнего десятилетия царствования Александра он противопоставил бурную и энергичную деятельность. В разговоре с Пушкиным Николай, несомненно, принял маску реформатора. Начав царствование в обстановке мятежа, Николай понимал необходимость реформ. Мысли о крестьянской реформе весьма серьезно его занимали, к ним он возвращался и в дальнейшем.
О характере и содержании этого разговора Пушкина с Николаем существует немало рассказов современников, отличающихся различными вариантами, в которых отразились в той или иной мере позиции самих рассказчиков. Сопоставляя эти рассказы и отсеивая в них сомнительное, можно более или менее точно установить следующие факты: разговор царя с Пушкиным длился не менее часа; царь заявил поэту, что освобождает его от ссылки в виде особой «милости» берет на себя обязанности цензора его произведений. При этом Николай спросил у Пушкина: «Что вы делали бы, если бы четырнадцатого декабря были в Петербурге?» Пушкин не отрекся от дружеских связей с декабристами, напротив, он, видимо, умолчал относительно своих глубоких сомнений в декабристской тактике и решительно подчеркнул единомыслие; и дал ответ: «Стал бы в ряды мятежников». К этому следует прибавить, что, не будучи умен, Николай I обладал способностью быть по желанию величествен или милостивым, казаться искренним и обаятельным. Можно предполагать, что какие-то туманные заверения о прощении «братьев, друзей, товарищей» Пушкин получил. Именно со времени этой первой встречи с царем начинается для Пушкина та роль заступника за декабристов, которую он подчеркнул как важнейшее из дел жизни:
И милость к падшим призывал.
Николай и после этого ответа не снял маску реформатора и благодетеля, а говорил, как и на допросах некоторых декабристов, о своих преобразовательных планах.Император, несмотря на торжественность коронационных празднеств, ясно понимал непрочность своего положения. Напуганный широкой картиной всеобщего недовольства, которую вскрыло следствие над декабристами, он чувствовал необходимость эффектного жеста, который примирил бы с ним общественность. Прощение Пушкина открывало такую возможность, и Николай решил ее использовать. Он умело разыграл сцену прощения, обещая Пушкину свободу от обычной цензуры, которая заменялась личной цензурой царя. Пушкин был возвращен из ссылки и получил право самому выбирать место своего пребывания. Подлинная цена этих «милостей» открылась перед Пушкиным позже. Обращаться к царю по поводу каждого стихотворения было, конечно, невозможно, и фактически лицом, от которого отныне зависела судьба пушкинского творчества и его личная судьба, сделался полновластный начальник III отделения канцелярии его величества Александр Христофорович.
Сын эстлянского гражданского губернатора, Бенкендорф, конечно, не мог бы рассчитывать на столь блестящую карьеру, если бы его мать не была близкой подругой императрицы Марии Федоровны. С детства связанный с павловским двором (пятнадцати лет его назначили флигель-адъютантом к императору Павлу) и безгранично преданный царствующей фамилии (известно любимое изречение Николая I: «Русские дворяне служат государству, немецкие — нам»), он ни в чем, однако, не походил на Аракчеева, игравшего при Александре I роль, сходную с той, которая выпала ему при Николае, и также прошедшего школу павловской службы. В отличие от Аракчеева Бенкендорф был не лишен образования. Аракчеев был неопрятен в одежде, подчеркнуто груб, кичился своей малограмотностью - Бенкендорф держался как светский человек, корректный в обращении. Не походя на трусливого Аракчеева, уклонявшегося от любого участия в военных действиях, Бенкендорф имел богатое боевое прошлое: он участвовал в ряде кампаний с 1803 по 1814 год и проявил себя как деятельный и храбрый генерал, однако подлинным призванием его стала не война, а политический сыск.
Наполеоновская Франция обладала самой развитой в Европе политической полицией, созданной Фуше. По сравнению с ней приемы политической полиции в России были грубыми и дилетантскими. При Александре I даже не существовало для нее единого организационного центра: министр полиции, начальник штаба гвардейского корпуса, петербургский и московский генерал-губернаторы имели каждый свою, — как правило, мало эффективную — систему политического контроля и шпионажа. Зато находились охотники в частном порядке на свой страх и риск организовывать политический надзор. Так, начальник южных (одесских) военных поселений генерал Витт в 1826 году прислал в Михайловское своего агента Бошняка, который под видом ученого-ботаника собирал шпионские данные о Пушкине, располагая полномочиями в случае нужды арестовать поэта. Но дальше всех пошел Бенкендорф. В 1821 году он проник с помощью своего агента Грибовского, члена Коренной управы Союза Благоденствия, в самый центр декабристского движения и представил соответствующую информацию Александру I. Однако в полной мере активность Бенкендорф смог проявить лишь в царствование Николая I. Он явился одним из ведущих деятелей Следственного комитета по делам декабристов, а затем был назначен шефом корпуса жандармов и начальником специально учрежденного Николаем Третьего отделения канцелярии его императорского величества. Это учреждение имело целью охватить всю Россию сетью тайного надзора. Бенкендорф не лишен был своеобразной честности: он не измышлял ложных обвинений, не преследовал личных врагов, в делах, прошедших через его руки, мы встречаем порой брезгливые заметки о лицах, делающих из корыстных видов ложные доносы. Однако он искренне считал литературу легкомысленным и вредоносным занятием, всякое проявление свободной мысли — подлежащим искоренению опасным мятежом. Люди его интересовали как объекты наблюдения или потенциальные агенты сыска. Таков был человек, «отеческим заботам» которого Николай 1 вверил судьбу Пушкина. Пушкин Бенкендорфа явно раздражал, и он много сделал для того, чтобы отягчить участь поэта в последние десять лет его жизни. Но восходящее к Жуковскому противопоставление царской милости преследованиям Бенкендорфа следует воспринимать критически: положение определял Николай I, Бенкендорф был, прежде всего, исполнителем монарших предписаний и истолкователем воли царя.
Выйдя из царского кабинета в кремлевском дворце, Пушкин не мог предполагать, как тяжело и унизительно сложатся в дальнейшем его отношения с властью,— он верил, что ему довелось видеть великие исторические преобразования в момент их зарождения и что он сможет повлиять на их будущий ход. Он был настроен оптимистически. В написанных через три месяца «Стансах» («В надежде славы и добра...») Пушкин, вероятнее всего, повторил кое-что из того, что Николай говорил ему о своих намерениях. В стихотворении преобразовательная деятельность Петра Первого ставилась в пример Николаю (ведь и А. Бестужев, обманутый царем, писал из крепости: «Я уверен, что небо даровало в Вас другого Петра Великого...»). Намеки, правда, слабые, на возможность преобразований содержались и в царском манифесте от 13 июля 1826 года. Там была заявлена готовность выслушивать всякого рода предложения и объявлялось, что в целях «постепенного усовершенствования» «всякое скромное желание к лучшему, всякая мысль к утверждению силы законов, к расширению истинного просвещения и промышленности, достигая к нам Путем законным, для всех отверстым, всегда будут приняты... с благоволением». Немалую роль в возникновении надежд на реформаторские устремления Николая I сыграли и такие тактические шаги, которыми он ознаменовал свое вступление на престол, как отставка Аракчеева и учреждение секретного комитета для подготовки некоторых важных преобразований в области государственного управления, политики и просвещения.
Но если отразившиеся в «Стансах» надежды на то, что Николай, подобно Петру, будет способствовать просвещению и не станет «презирать» свою страну, могли опираться на уверения самого Николая, то другой призыв: «будь... памятью... незлобен» — намек на необходимость смягчения участи осужденных декабристов — уж никак не мог понравиться царю. Ведь тогда печатно утверждалось нечто совсем обратное — восхвалялось «милосердие» государя, который заменил четвертование пяти вождей восстания повешением, и т. п. Обобщая толки по этому поводу, фон Фок писал Бенкендорфу, что многие осуждают «снисхождение» членам тайных обществ, «находят, что следовало бы строже наказывать». В опубликованном докладе Николаю Верховного уголовного суда по делу декабристов решительно отклонялась возможность «милосердия»: «хотя милосердию, от самодержавной власти исходящему, закон не может положить никаких пределов, но Верховный уголовный суд приемлет дерзновение представить, что есть степени преступления столь высокие и с общей безопасностью государства столь смежные, что самому милосердию они, кажется, должны быть недоступны». О боязни выразить даже малейшее сочувствие осужденным говорится и в дошедших до нас мемуарах современников. Таким образом, намек на необходимость смягчения приговоров, вынесенных декабристам, был весьма смелым. При всем этом написание «Стансов» было трагической ошибкой Пушкина, к тому же неправильно воспринятой в передовых кругах русского общества как отход поэта от былых идеалов. На обвинения в «лести» царю он отвечал позднее в стихотворении «Друзьям»:
Нет, я не льстец, когда царюХвалу свободную слагаю...
Поэта, утверждал Пушкин, могли бы назвать льстецом, если бы он призывал царя презирать народ, подавлять просвещение и ограничивать «милость». Но в конце стихотворения, как и в «Стансах», вновь была выражена иллюзорная надежда, что поэт может стать чуть ли не наставником царя на путь истинный:
Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певецМолчит, потупя очи долу.
Тяжелые переживания Пушкина, узнавшего об отрицательной реакции прогрессивных кругов на стихотворения «Стансы» и «Друзьям», обостряли клеветнические слухи о мнимых «благодеяниях» и «милостях», оказанных ему царем. Так, в донесении фон Фока Бенкендорфу с удовлетворением упоминались подслушанные тайными агентами разговоры по поводу «особенного попечения государя об отличном поэте Пушкине». Передавали, что «Стансы» будто бы написаны Пушкиным не только по заказу свыше, но и «в присутствии государя, в кабинете его величества» (это опровергается черновиком «Стансов» с датой: 22 декабря 1826 года, Пушкин же был на приеме у Николая 8 сентября). Но «жужжанье клеветы лукавой» этим не ограничивалось: получила распространение гнусная эпиграмма, где поэт объявлялся ренегатом, который прежде «вольность проповедовал», а затем стал «придворным лизоблюдом». Конечно, все это не имело ничего общего с отношением к Пушкину действительных приверженцев «вольности», отношением передовой России, которая, сожалея по поводу появления стихотворений «Стансы» и «Друзьям», продолжала видеть в поэте свою надежду, властителя дум.
Чтобы лучше представить в какое время вернулся Пушкин в Москву после ссылки надо вспомнить историю. Точка отсчета - поражение восстания декабристов. Надежды и упования на возможность переустройства общественно- политической жизни целого поколения были расстреляны картечью 14 декабря 1925 года. За разгромом последовали аресты, осуждения, жестокие наказания всем «прикосновенным к заговору».
Времена, последовавшие за разгромом восстания, были ужасны. «Понадобилось не менее десятка лет, чтобы человек мог опомниться в своем горестном положении порабощенного и гонимого существа, - писал А. И. Герцен в статье « Литература и общественное мнение после 14 декабря 1825 года».- Людьми овладело глубокое отчаяние и всеобщее уныние». Общество расслоилось. Многие из недавних либералов, людей прогрессивных, мыслящих, переметнулись на другую сторону, оказались вдруг ревностными служителями наследника престола. Герцен отмечал подлое и низкое рвение, с которым высшее общество спешило отречься от всех человеческих чувств, от всех гуманных мыслей при первых же угрозах со стороны властей. Люди растеряли слабо усвоенные понятия о чести и достоинстве. « Русская аристократия уже не оправилась в царствование Николая…все, что было в ней благородного и великодушного, томилось в рудниках или в Сибири».
Была развернута борьба по искоренению вольнолюбия. Москва, по воспоминаниям современников поэта, наполнилась шпионами.
В такую атмосферу вернулся Пушкин после ссылки. Он не узнал общества - ни московского, ни петербургского. Поэт был оторван от лучших людей своего поколения. Многие из близких друзей и добрых приятелей томились в каторжных норах Сибири. Даже имен многих нельзя было произносить вслух. По возвращении из ссылки Пушкин продолжал размышлять о трагедии декабризма и ее причинах, о роли и назначении поэта в новых исторических условия. Он признавал, что нужно считаться с реальностью, но это не означало для него смириться, отказаться от высокой миссии поэта — провидца и учителя. В стихотворении «Пророк» (1826) он выразил эти свои мысли о призвании поэта символическими словами:
Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.
Он покинул столицу безвестным юношей. Александр I преследовал его, но царю и в голову никогда не пришло бы пускаться с ним в личные объяснения. Ссылка Пушкина взволновала лишь литературные круги, друзья журили его тогда как провинившегося мальчика. Возвращение его было торжественно. Царь беседовал с ним дольше, чем с любым из своих сановников, и после аудиенции во всеуслышание назвал умнейшим человеком России. Общество, подавленное репрессиями, боясь выражать свое недовольство прямо, находило отдушину в тех восторгах, которые расточало возвращенному из ссылки поэту. Торжество Пушкина в Москве 1826 года было как бы противовесом только что прошедшим тягостным официальным торжествам, связанным с коронацией Николая. Пушкин находился на вершине славы. Престарелый В. В. Измайлов, в чьем журнале «Российский музеум» в 1815 году было опубликовано первое подписанное собственным именем стихотворение Пушкина, приветствовал его из подмосковной деревни, несколько архаически выражая общий восторг: «Завидую Москве. Она короновала императора, теперь коронует поэта».
Возвращение Пушкина из ссылки было воспринято как крупнейшее событие. Современник вспоминает о посещении Пушкиным Большого театра в Москве 12 сентября 1826 года: «...Пушкин вошел в театр, мгновенно пронесся по всему театру говор, повторяющий это имя. Все взоры, все внимание обратилось на него. Публика глядела не на сцену, а на своего любимца-поэта. У разъезда толпились около него…». Во время гулянья под Новинским, по словам очевидца, «толпы народа ходили за славным певцом Эльбруса и Бахчисарая, при восхищениях с разных сторон: «Укажите! укажите нам его!» Поэтесса Е. П. Ростопчина так вспоминала о появлении Пушкина на этом гулянье:
Вдруг всё стеснилось, и с волненьем,
Одним стремительным движениемТолпа рванулась вперёд…
И мне сказали: «Он идёт!
Он, наш поэт, он, наша слава,
Любимец общий!..» Величавый
В своей особе небольшой,
Но смелый, ловкий и живой,
Прошел он быстро предо мной...
Пресса уделяла вернувшемуся из опалы немалое внимание. Только в московских журналах с 1826 по 1828 годы более двухсот раз упоминалось о Пушкине. Весть о возвращении Пушкина из ссылки, о том, что он уцелел после разгрома декабристского восстания, вызывала радость самых разнообразных слоев общества, так или иначе оставшихся в оппозиции к самодержавию. Дельвиг сообщал Пушкину из Петербурга, что у него даже «люди», то есть дворовые, услышав новость о Пушкине, прыгали от радости. В. В. Измайлов писал, что Пушкин достоин триумфов Петрарки и Тасса; но москвитяне — не римляне и Кремль — не Капитолий.
Одной из первых забот возвращенного поэта стала мысль о консолидации литературных сил. Еще в Михайловском он думал об объединяющем все талантливое журнале. Теперь он вернулся к этой мысли. Однако реализация планов встретила ряд трудностей: русская литература понесла значительные потери, потеряв в результате правительственных репрессий, ряды писателей одного с Пушкиным поколения поредели, — необходимо было налаживать связи с литературной молодежью. И делать это надо было именно в Москве: петербургская словесность понесла наибольшие потери, и центр литературы временно переместился в Москву.
Молодая московская литература второй половины 1820-х годов группировалась вокруг двух центров. Первый — журнал «Московский телеграф», издававшийся молодым и энергичным литератором Н. А. Полевым с помощью давнего друга Пушкина П. А. Вяземского. Полевой - талантливый самоучка из купцов — был решительным поборником романтизма, которому старался придать радикальную политическую окраску. Литературная программа Полевого казалась Пушкину дилетантской. Надеяться, что Полевой откажется от своей, весьма определенной платформы, не приходилось, а Пушкин хотел связать себя с журналом, на курс которого он мог бы оказывать определяющее влияние. В этом отношении сближение с «Московским телеграфом» было бесперспективным.
Другой литературный центр составляла группа молодых литераторов, связанных с философским кружком «любомудров»: Д. Веневитинов, С. Шевырев, М. Погодин, В. Одоевский, И. Киреевский и др. Все они — выученики Московского университета, младшие братья декабристов, погрузившиеся в изучение немецкой эстетики и пропагандировавшие сочинения немецких романтиков. Свой философский кружок они распустили в период последекабрьских репрессий. Пушкин надеялся, что теоретические разногласия не помешают ему направить этих юных литераторов по желаемому ему руслу. Любомудры представляли собой новый и непривычный для Пушкина тип молодежи: умеренные в политике, преданные кабинетным занятиям, привычные к систематическому умозрению, серьезные и молчаливые, они заслужили в Москве кличку «архивных юношей» (по службе в Архиве министерства иностранных дел). В идеях любомудров вызревали как будущие мнения кружка Белинского — Станкевича, так и основы завтрашних концепций славянофилов. Пушкин с интересом приглядывался к этой молодежи, хотя внутренне оставался ей чужд.
С восхищением были встречены в передовом кругу Москвы новые произведения поэта. Встреча произошла 12 октября 1826 - года на квартире у Веневитинова. Пушкин читал еще не опубликованного «Бориса Годунова», песни о Степане Разине, недавно написанное добавление к «Руслану и Людмиле» - «У лукоморья дуб зеленый...». Вот как описывает Погодин это чтение: «Представьте себе обаяние его имени, живость впечатления от его поэм, только что напечатанных — «Руслана и Людмилы», «Кавказского пленника», — и в особенности мелких стихотворений, каковы: «Празднество Вакха», «Деревня», «К домовому», «К морю», которые просто привели в восторг всю читающую публику, особенно нашу молодежь, архивную и университетскую. Пушкин представлялся нам каким-то гением, ниспосланным оживить русскую словесность. Он обещал прочесть всему нашему кругу «Бориса Годунова», только что им конченного. Можно представить, с каким нетерпением мы ожидали назначенного дня. Наконец настало это вожделенное число. Октября 12 числа поутру спозаранку мы собрались все к Веневитинову и с трепещущим сердцем ожидали Пушкина. Наконец в двенадцать часов он явился. Надобно представить себе самую фигуру Пушкина. Ожидаемый нами величавый жрец высокого искусства — это был среднего роста, почти низенький человек, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми быстрыми глазами, вертлявый, с порывистыми ужимками, с приятным голосом, в черном сюртуке, в темном жилете, застегнутом наглухо, в небрежно завязанном галстуке. Мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Державина, Ломоносова, Хераскова, Озерова, которых мы знали наизусть. Учителем нашим был Мерзляков, строгий классик. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовавший в то время. Вместо высокопарного языка богов мы услышали простую, ясную, обыкновенную и вместе с тем – поэтическую, увлекательную речь! Это был распев, завершенный французской декламацией.
Первые явления мы выслушали тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Что было со мною, я и рассказать не могу. Мне показалось, что родной мой и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена: мне послышался живой голос древнего русского летописателя. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иваном Грозным, о молитве иноков: «Да ниспошлет покой его душе, страдающей и бурной»,— мы все просто как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться. Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления. «Эван, эвое, дайте чаши!» Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь. О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь! Не помню, как мы разошлись, как докончили день, как улеглись спать. Да едва ли кто и спал из нас в эту ночь, так был потрясен весь наш организм».
Из-за цезурных осложнений трагедия «Борис Годунов» вышла в свет лишь в 1831 году. Встречена была уже менее восторженно.
Узнав о планах московской молодежи издавать журнал, Пушкин поделился своими намерениями, и было решено объединить усилия. 24 декабря состоялся торжественный обед у Хомякова, которым отметили рождение нового журнала. С начала 1827 года журнал, названный «Московским вестником» (явное соединение названий двух знаменитых журналов Карамзина, выходивших в Москве: «Московский журнал» и «Вестник Европы»), начал выходить. Пушкин рассчитывал на ведущую роль этого издания, а также и на значительные материальные выгоды (редакция должна была выплачивать ему за участие 10000 в год). Пушкин активно поддерживал журнал, опубликовав в нем сцены из «Бориса Годунова», отрывки из «Евгения Онегина» и ряд стихотворений («Чернь», «Стансы», «Пророк», «Поэт» и др.). Однако в целом опыт сотрудничества в «Московском вестнике» оказался неудачным: журнал ориентировался на читательскую элиту, число читателей быстро падало, отсутствие боевой критики препятствовало широте литературного звучания. Коммерческий успех журнала был ниже всех ожиданий. Пушкин рано почувствовал разочарование, Уже 2 марта 1827 года он писал Дельвигу: «Ты пеняешь мне за Московский вестник) — и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее, да что делать? собрались ребята теплые, упрямые; поп свое, а чорт свое. Я «говорю : «Господа, охота вам из пустого в порожнее переливать — все это хорошо для немцев, пресыщенных уже положительными познаниями, но мы...» (.XIII, 32).
Неудачный опыт сотрудничества в «Московском вестнике» обнаружил, что между Пушкиным и молодым поколением литераторов стали возникать трудности и взаимное непонимание. Одновременно выяснилось, что читательские требования к журналу не совпадали с представлениями издателей. «Московский телеграф» Полевого имел несравнимо худшую литературную часть и не мог похвастаться громкими именами сотрудников. Однако у него был боевой отдел критики, обеспеченный статьями Вяземского и самого Полевого, и это принесло ему победу над «Московским вестником». Планы Пушкина оказать организующее воздействие на развитие современной ему литературы во второй половине 1820-х годов окончились неудачей.
В Москве поэт встречался с друзьями - Вяземским, Чаадаевым, поэтами Баратынским и Веневитиновым. Часто эти встречи происходили в салоне З. А. Волконской. «В Москве дом княгини З. А. Волконской был изящным сборным местом всех замечательных и отборных личностей современного общества…- вспоминает П. А. Вяземский, - помнится и слышится еще, как она в присутствии Пушкина и в первый день знакомства с ним пропела элегию его, положенную на музыку Геништою:
Погасло дневное светило,
На море синее вечерний пал туман.
Пушкин был живо тронут этим обольщением тонкого и художественного кокетства. По обыкновению, краска вспыхивала в лице его. В нем этот детский и женский признак сильной впечатлительности был несомненное выражение внутреннего смущения, радости, досады, всякого потрясающего ощущения».
В салоне Волконской Пушкин с восхищением слушал поэтические импровизации Адама Мицкевича. Он оказывал польскому поэту глубочайшее уважение. Мицкевич отвечал Пушкину искренней дружбой.
В последствии в стихотворном отрывке « Он между нами жил…» Пушкин вспоминал о беседах с Мицкевичем:
Мы его любили. Мирный, благосклонный,
Он посещал беседы наши. С ним
Делились мы и чистыми мечтами
И песнями (он вдохновенен был свыше,
И с высоты взирал на жизнь). Нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся,
Мы жадно слушали поэта.
« Пушкин- первый поэт своего народа: вот что дает ему право на славу»,- говорил Мицкевич.
В Москве останавливался он в это время, большею частью, у одного из самых коротких ему людей П. В. Нащокина. Чрезвычайно любопытны рассказы последнего об образе жизни поэта нашего во время его приездов в Москву, в последние годы его холостой жизни и во все продолжение женатой. Из слов П. В. Нащокина можно видеть, как изменились привычки Пушкина; как страсть к светским развлечениям, к разноречивому говору многолюдства смягчилась и нем потребностями своего угла и семейной жизни. Пушкин казался домоседом. Целые дни проводил он и кругу домашних своего друга, на диване, с трубкой во рту и прислушиваясь к простому разговору, в котором дела хозяйственного быта стояли часто на первом плане. Надобны были даже усилия со стороны заботливого друга его, чтоб заставить Пушкина не прерывать своих знакомств, не скрываться от общества и выезжать.
П. В. Нащокин был наследник громадного родового имения, гвардейский кавалерийский офицер, принятый в лучшем обществе, он удивлял многих обстановкою своей холостой квартиры и своими рысаками, и своими экипажами, выписанными прямо из Вены, и своими вечерами, на которых собирались литераторы, художники, артисты и французские актрисы... Деньги ему были ни по чем. Умный, образованный человек со вкусом, он бросал их, желая покровительствовать художникам и артистам. Он любил жить и давал жить другим... Он покупал все, что попадало ему на глаза и останавливало чем-нибудь его внимание: мраморные вазы, китайские безделушки, фарфор, бронзу — что ни попало и сколько бы ни стоило; в особенности дорого ему обходились бенефисные подарки актрисам. Причудам его не было конца, так что однажды за маленький восковой огарок, пред которым Асенкова учила свою лучшую роль, он заплатил ее горничной шальную цену и обделал в серебряный футляр, который вскоре подарил кому-то из знакомых.
Время шло, миновала юность, «полдень мой настал»,— говорил о себе Пушкин, а он все еще оставался скитальцем, одиноким, без семьи. Временами он подумывал о женитьбе, и весьма серьезно. Среди женщин, которые его любили, бесконечно преданных ему, была Анна Николаевна Вульф, дочь П. А. Осиновой, но эта девушка не пробудила в нем ответного чувства. Осенью 1826 года в Москве Пушкин познакомился с дальней своей родственницей Софьей Пушкиной, милой и красивой девушкой, и сразу в нее влюбился, но за ней уже давно ухаживал другой молодой человек — В. А. Панин. Тогда же Пушкин попросил ее родственника, с которым подружился, В. П. Зубкова, сосватать его с Софьей. Однако при этом Пушкин, всегда склонный к самоанализу, писал о себе: «Мне 27 лет, дорогой друг. Пора жить, т. е. познать счастье. Ты мне говоришь, что оно не может быть вечным: хороша новость! Не личное мое счастье заботит меня, — могу ли я не быть счастливейшим из людей, находясь близ нее, но я содрогаюсь при мысли о судьбе, которая, быть может, ее ожидает, я содрогаюсь при мысли, что не смогу сделать ее столь счастливой, как мне того хотелось бы. Моя жизнь, доселе такая кочующая, такая бурная, мой характер — неровный, ревнивый, подозрительный, буйный и слабый одновременно — вот что иногда наводит на меня тягостные раздумья. — Следует ли мне связать с судьбой столь печальной, с характером столь несчастным — судьбу столь нежного, столь прекрасного существа?.. Боже мой, как она хороша! и как смешно было мое поведение по отношению к ней! Дорогой друг, постарайся изгладить дурное впечатление, которое оно могло на нее произвести,—скажи ей, что я благоразумнее, чем выгляжу...»
Но брак не состоялся: Софья Пушкина вышла замуж за Панина. Одно время Пушкин был сильно увлечен Екатериной Ушаковой и подумывал о женитьбе на ней. Не менее серьезным было и увлечение поэта Анной Олениной. Однако все его планы кончились неудачей.
В конце 1828 или в начале 1829 года Пушкин на балу у танцмейстера Иогеля познакомился с Натальей Николаевной Гончаровой, которой было тогда шестнадцать лет. Ее изумительная красота, поэтическая внешность очаровали его, и он страстно влюбился в молодую девушку, испытывая, по его словам, нетерпение сердца, «пьяного от счастья». Около двух лет продолжались его попытки уговорить будущую тещу Наталью Ивановну отдать за него дочь. Эта скупая до чрезвычайности, злобная и сварливая женщина, измученная полоумным мужем, все это время терзала Пушкина, то требуя свидетельства о его политической благонадежности, то без конца жалуясь на свою бедность и невозможность тратиться на приданое (на это Пушнин и рассчитывал: под видом займа он дал ей затем для покупки приданого одиннадцать тысяч). Наталья Ивановна третировала Пушкина, устраивала оскорбительные сцены, иногда доводила его до исступления, но любовь поэта превозмогла все. 16 апреля 1830 года он обратился с письмом к Бенкендорфу, прося выдать ему нечто вроде свидетельства о благонадежности: «Госпожа Гончарова - боится отдать свою дочь за человека, который имел бы несчастье быть на дурном счету у государя...» Бенкендорф вскоре ответил Пушкину письмом, в котором лицемерные уверения в том, что будто бы за поэтом не было полицейского надзора, а было лишь «отеческое попечение», сочетались с намеками на то, что положение Пушкина зависит от него самого: «В нем не может быть ничего ложного и сомнительного, если только вы сами не сделаете его таким». Это и было свидетельством, нужным будущей теще,—Бенкендорф писал; «Я уполномочиваю вас, милостивый государь, показать это письмо всем, кому вы найдете нужным». В этом же письме сообщалось: «Его императорское величество с благосклонным удовлетворением принял известие о предстоящей вашей женитьбе и при этом изволил выразить надежду, что вы хорошо испытали себя перед тем как предпринять этот шаг и в своем сердце и характере нашли качества, необходимые для того, чтобы составить счастье женщины, особенно женщины столь достойной и привлекательной, как м-ль Гончарова». Последний комплимент был сделан в расчете на то, что он дойдет до Натальи Николаевны: ведь письмо Пушкин покажет ей и ее матери. Николай всегда замечал красивых женщин, видел он на балу и Наталью Николаевну: впоследствии он сделает так, чтобы она бывала на придворных балах постоянно...
Пушкин не строил себе иллюзии, думая о будущей своей жизни и возможности счастья. В откровенном, исполненном горечи и тяжелых предчувствий письме, написанном матери будущей жены вскоре после того, как было сделано предложение, Пушкин писал: «Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери; я могу надеяться возбудить со временем её привязанность, но ничем не могу ей поправиться; если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца. Но будучи всегда окружена восхищением, поклонением, соблазнами, надолго ли сохранит она это спокойствие? Ей станут говорить, что лишь несчастная судьба помешала, ей заключить другой, более равный, более блестящий, более достойный ее союз; — может быть, эти мнения и будут искренни, но уж ей они, безусловно, покажутся таковыми. Не возникнут ли у нее сожаления? Не будет ли она тогда смотреть на меня как на помеху, как на коварного похитителя? Не почувствует ли она ко мне отвращения? Бог мне свидетель, что я готов умереть за нее; но умереть, для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, вольной на другой день выбрать себе нового мужа, — эта мысль для меня — ад.
Перейдем к вопросу о денежных средствах; я придаю этому мало значения. До сих пор мне хватало моего состояния. Хватит ли его после моей женитьбы? Я не потерплю ни за что на свете, чтобы жена моя испытывала лишения, чтобы она не бывала там, где она призвана блистать, развлекаться. Она вправе этого требовать. Чтобы угодить ей, я согласен принести в жертву свои вкусы, все, чем я увлекался в жизни, мае вольное, полное случайностей существование, И все же не станет ли она роптать, если положение ее в свете не будет столь блестящим, как она заслуживает и как я того хотел бы?
Вот в чем отчасти заключаются мои опасения. Трепещу при мысли, что вы найдете их слишком справедливыми».
О своих сомнениях и тревогах Пушкин писал приятелю Н. Н. Кривцову: «Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью».
После долгих проволочек мать Натальи Николаевны все-таки дала согласие на брак. Согласилась она, очевидно, скрепя сердце: Пушкин ничем ей не импонировал—не было у него ни высокого чина, ни состояния. Вероятно, отчасти на ее решение повлияло письмо Бенкендорфа, в котором сообщалось, что царь «благосклонно» смотрит на эту женитьбу.
В прозаическом наброске 1830 года «Участь моя решена. Я женюсь...». ( с элементами явно автобиографическими (подзаголовок «С французского»—условный), многие детали совпадают с фактами жизни Пушкина, а кое-что соответствует его размышлениям о женитьбе в письмах этой поры. Здесь рассказано о переживаниях жениха в ожидании «решительного ответа», о том, как «мать заговорила о приданом», о невесте же одно замечание: «Наденька подала мне холодную, безответную руку». О думах Натальи Николаевны Пушкину в то время, видимо, ничего не было известно. Вероятно, он предполагал, что она выполняет волю матери или, выходя за него, рада выбраться из кошмара, который царил в доме родителей. Судя по свидетельствам современников, Наталья Николаевна была не только необычайно красива, но и добра. Насколько она была умна, способна ли была оценить Пушкина как поэта? Нам это неизвестно, но все-таки обращает на себя внимание тот факт, что в письмах к ней Пушкин никогда не пишет ни о своих творческих замыслах, ни о литературе вообще. М. А. Корф, враждебно относившийся к Пушкину, злорадствовал:
«Прелестная жена, которая любила славу своего мужа более для успехов своих в свете, предпочитала блеск и бальную залу всей поэзии в мире...» Но не будем задерживаться на характеристике жены Пушкина, — он ее любил, любил преданно и самозабвенно.
Похожие работы
... с собой в Москву “Бориса Годунова”. Он много раз читал эту трагедию у друзей – Соболевского, Вяземского, Баратынского, у себя в гостинице. Она произвела на них неизгладимое впечатление. В Москве Пушкин знакомится с членами “Общества любомудров” беллетристом В. Ф. Одоевским, поэтом Д. В. Веневитиновым и другими. Как-то зашла речь о выпуске журнала в противовес “Сыну отечества”, издававшемуся ...
... Панина на крошке Пушкиной». 19 декабря. Когда поэт вернулся в Москву, она была уже помолвлена, а через месяц вышла замуж. Такова грустная история первого неудавшегося сватовства Пушкина на Пресне. 8.Заморенова ул. Дом 16. Ушаковы. 1826-1830 гг. Осенью или зимой 1826 г. Пушкин познакомился на балу с семнадцатилетней Екатериной Николаевной Ушаковой – дочерью статского советника Ушакова ...
... в центре комнаты. Стул перед ним отодвинут, словно хозяин кабинета только что вышел, задув свечу, оставив недописанной страницу. На зеленом сукне — «Антология английской поэзии», книга, привезенная Пушкиным в Болдино, чернильный прибор из стекла и бронзы, множество рукописных листов и тетрадей. Неподалеку от стола, на бюро, женский портрет, выполненный акварелью. Задумчиво смотрят карие, чуть ...
... ibi patria" (где хорошо, там и родина), для коих все равно: бегать ли им под орлом французским или русским, языком позорить все русское - были бы только сыты". А каковы педагогические взгляды А.С.Пушкина, высказанные им в художественных произведениях? Царь Борис (драма "Борис Годунов") говорит сыну Федору: "Как хорошо! Вот сладкий плод ученья! Как с облаков ты можешь обозреть все царство вдруг: ...
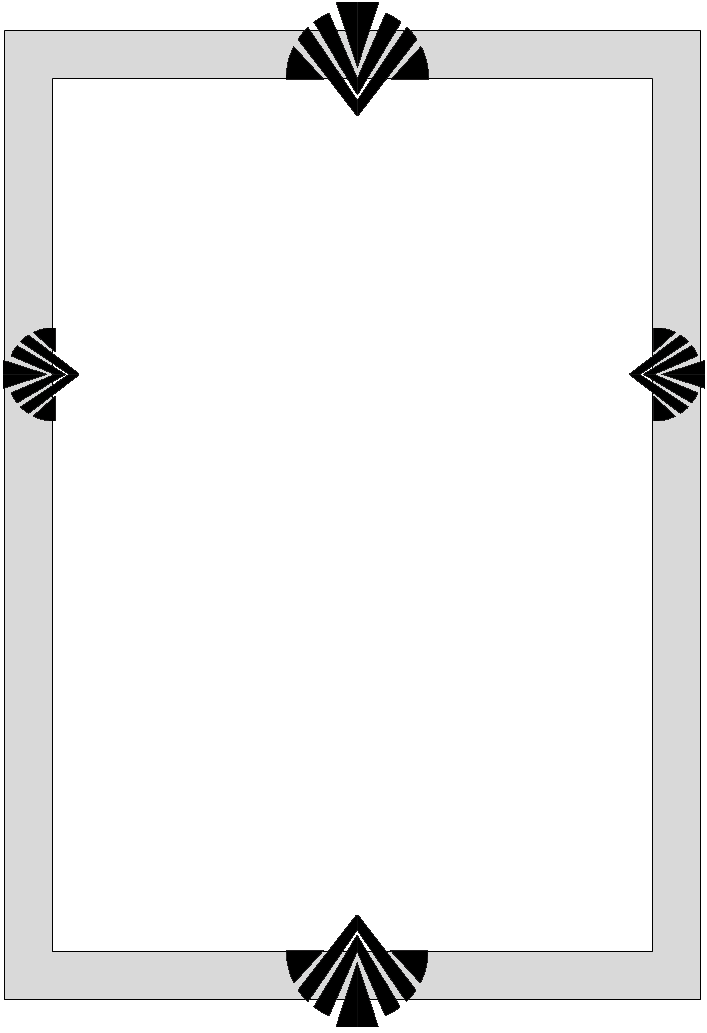


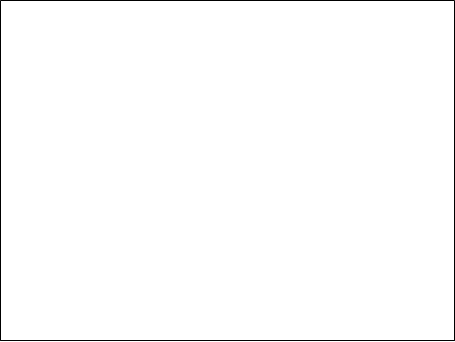
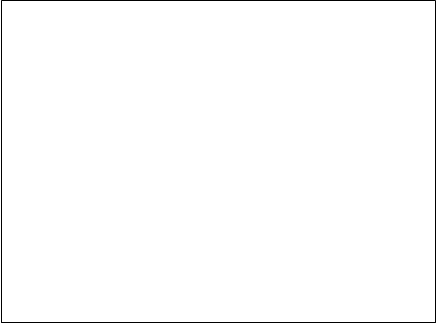
0 комментариев